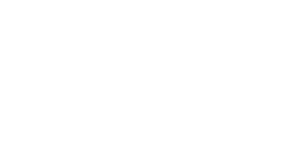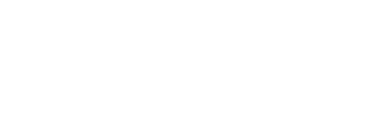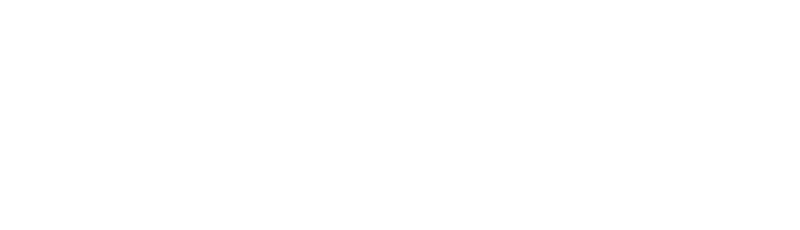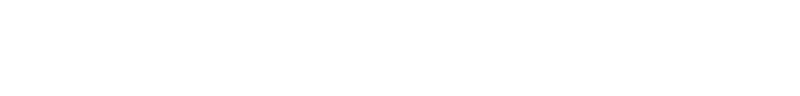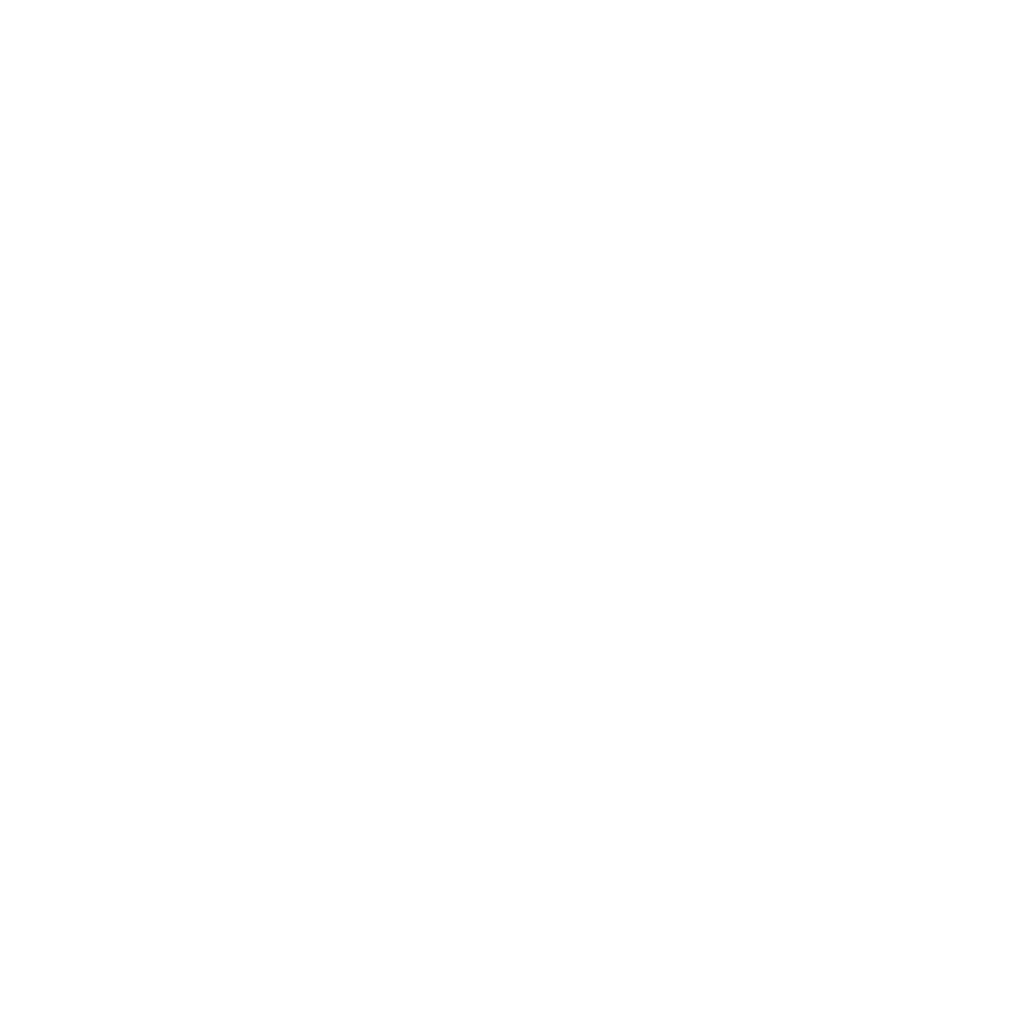Помощь, когда внутри стало слишком тяжело.
Помогаю справиться с тревогой, сложными эмоциональными состояниями и внутренними кризисами — такими, как тревога, вина, обиды, страхи, конфликты и потеря опоры.
- На консультациях находим источник тревоги и возвращаем спокойствие.
- Учимся видеть страх не как врага, а как сигнал, и работать с ним.
- Разбираем корень этого взгляда и постепенно меняем его.
- Отделяем реальную ответственность от навешанного груза.
- Работаем бережно с тем, что было не признано или не отпущено.
- Учимся управлять эмоциями, не подавляя себя.
- Возвращаем контакт с собой, со своей живостью и опорой.
- Определяем, где ты настоящий, а где — чужой сценарий.
- Работаю с семейными сценариями, поколениями и ожиданиями.
- Выясняем, что за этим стоит: страх, долг, вина или старая история.
- Работаю бережно: шаг за шагом, без давления.
- Помогаю пройти через это не в одиночку. Находим, что можно сохранить — и как идти дальше.
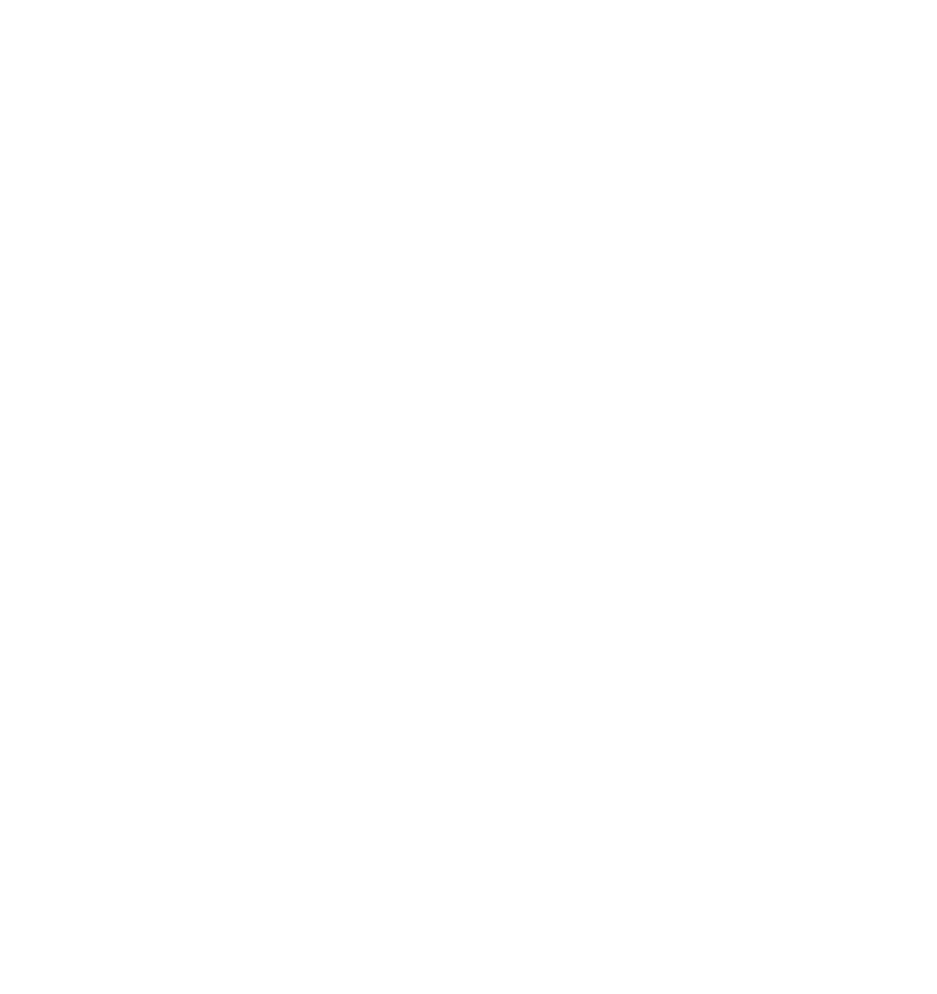
13 лет работаю с людьми, которые сталкиваются с тревогой, истощением, кризисами и повторяющимися сценариями. Помогаю увидеть корень проблемы и вернуть ощущение контроля над своей жизнью.
Эта книга поможет видеть в чувствах не помеху, а навигацию. Освоив их язык, вы получите карту психики, по которой легче двигаться — к ясности и жизни, где чувства становятся источником смысла, а не хаоса.
Купить официальную версию на Литрес.
Полная, отредактированная книга в высоком качестве.
Удобно читать с телефона, планшета или ридера.
Получить книгу в подарок
Если хотите — просто напишите мне в Telegram.
Я отправлю электронную версию бесплатно, без условий и обязательств.
Клинический психолог
Member American Psychological Association (APA)
В основе моей практики — интегративно-ресурсная психотерапия, психодинамический подход и работа с семейными системами. Это научно обоснованные методы, без эзотерики, универсальных советов и психологических лайфхаков. Всё, что я предлагаю, подтверждено исследованиями и практическим опытом. Мои клиенты — специалисты, предприниматели, родители, партнёры, те, кто устал «тащить всё в одиночку». В процессе работы они учатся распознавать свои паттерны, выходить из замкнутого круга и находить внутреннюю опору.
Веду исследования в области нейропсихологии личности — изучаю, как работа мозга связана с внутренними конфликтами и сменой психологических состояний.
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Клинический психолог, Московский психолого-социальный университет (2015), Семейная психология и конфликтология, МГГУ им. М. А. Шолохова (2013) Повышение квалификации по клинической психологии, Московский институт психологии (2025)
Профессиональная специализация:
Интегративно-ресурсная психотерапия (метод д.психол. В. Л. Савеличевой), Медиация в семейных конфликтах
Членство и публикации:
Международный аффилированный член APA
ORCID: 0009-0005-7076-8423
ResearcherID: NES-1519-2025
Academia.edu: StanislavPererodin
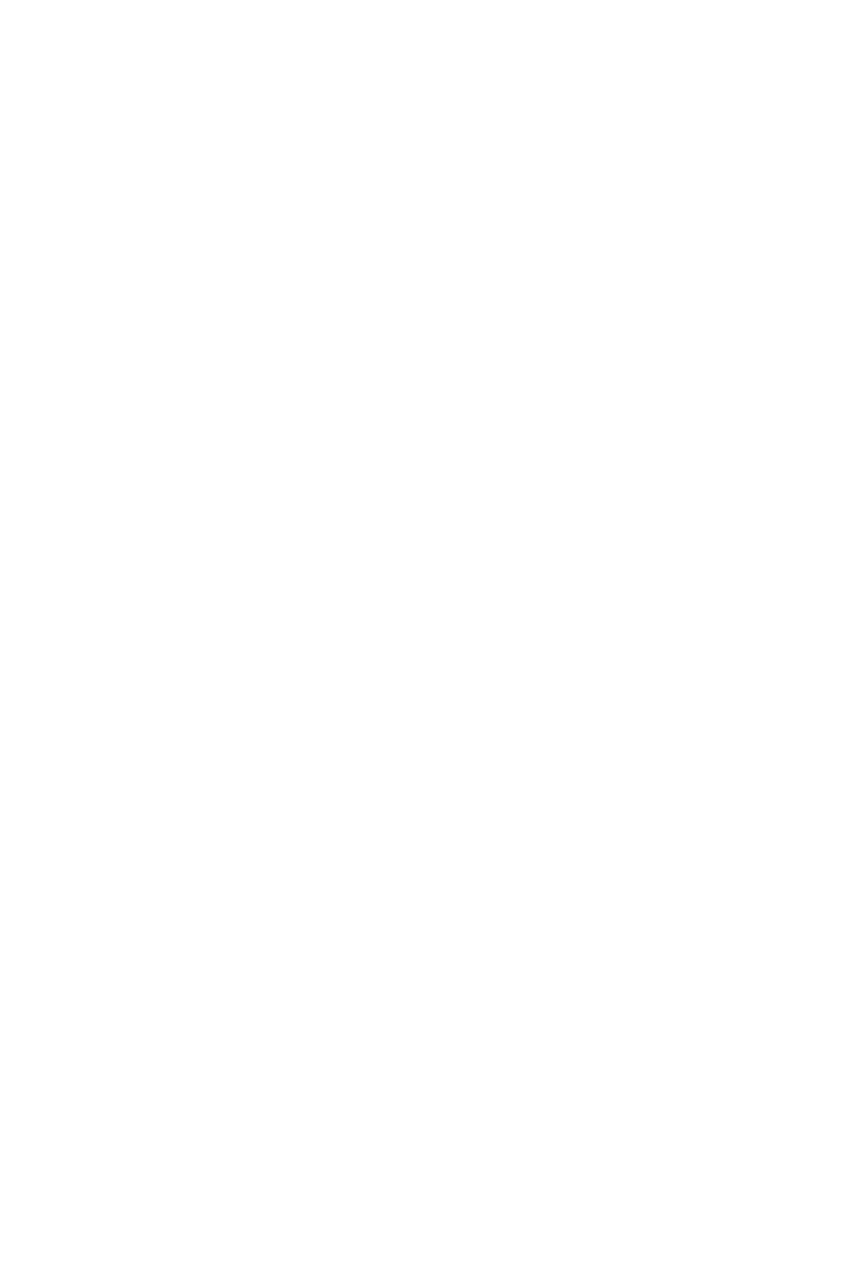
1. Ролевые и субличностные конфликты
Что это?
Внутренние противоречия между разными “ролями” (например, сын — специалист — партнёр), когда ожидания и ценности этих ролей не совпадают. Возникает ощущение раздвоенности, внутренней борьбы, трудности с интеграцией разных сторон себя. Человек может чувствовать, что “живет не своей жизнью” или вынужден постоянно переключаться между несовместимыми сценариями поведения.
2. Аффективные расстройства
Как проявляется?
Сюда относятся состояния, связанные с хронической тревогой, внутренним напряжением, частыми перепадами настроения, эмоциональной “заморозкой” или депрессивными переживаниями. Человек может испытывать бессилие, страх будущего, ощущение, что радость и энергия “исчезли”.
3. Проблемы самоидентификации
В чём суть?
Трудности с пониманием своего “Я”: кто я на самом деле, чего хочу, куда иду? Внутренняя разобщённость, ощущение “размытой” идентичности, неуверенность в своих ценностях и целях. Часто сопровождается невозможностью принимать решения и ощущением “потерянности” даже при внешнем успехе.
4. Интерперсональные конфликты
Когда возникает?
Повторяющиеся сценарии конфликтов с близкими или коллегами, часто — как будто по “замкнутому кругу”. Эти конфликты связаны с несовпадением ролевых ожиданий (например, “я всегда в роли спасателя”, “меня не слышат как партнёра/родителя”), неразрешёнными внутренними конфликтами привязанности и устоявшимися семейными или рабочими сценариями.
5. Посттравматические проявления
Что здесь происходит?
Эмоциональные и когнитивные последствия пережитых травм — навязчивые воспоминания, эмоциональная “заморозка”, ощущение отстранённости от жизни. Часто это выражается через структурную диссоциацию: “часть меня как будто застряла в прошлом”, трудно интегрировать травматичный опыт в свою жизнь.
6. Когнитивные искажения
Как это выглядит?
Повторяющиеся неадаптивные убеждения, автоматические негативные мысли (“я всегда должен”, “я недостаточно хорош”), сценарии, которые запускаются без осознания. Они мешают свободно реагировать на жизнь, ограничивают спектр возможных решений и усиливают внутренние конфликты.
7. Профессиональное выгорание и экзистенциальные кризисы
Чем опасны?
Состояния, когда работа или деятельность перестаёт приносить удовлетворение, появляется чувство опустошения, утраты смысла, внутренний протест против собственной роли (“я не хочу больше быть этим специалистом/руководителем/педагогом”). Часто сопровождается стагнацией, ощущением “жизни на автомате”, апатией и снижением продуктивности.
Как всё начиналось
Моё исследование внутренних миров началось задолго до получения первого диплома. С детства меня занимали вопросы: почему люди могут за считанные секунды переключаться с гнева на спокойствие, как будто только что не было ни конфликта, ни обиды? Что такое мысли, роли, где заканчивается одно “я” и начинается другое?
Я часто ловил себя на вопросе: да что у вас вообще в головах происходит?
Этот вопрос не давал покоя — казалось, что у каждого внутри свой скрытый мир, в который нет доступа. Особенно остро я чувствовал это в повседневных семейных ситуациях: взрослые могли сначала ссориться, а потом тут же вести себя так, будто ничего не случилось.
Моя бабушка жила напротив психиатрической больницы. По пути к ней я всегда проходил мимо корпуса, слышал истории, наблюдал за окнами и людьми во дворе. Часто у бабушки собирались её друзья и коллеги: был и главный врач психоневрологической больницы, и родственник, который там работал и тоже заходил в гости. Эти встречи сопровождались профессиональными беседами, историями из практики и даже ироничными шутками “про больницу” — это формировало особый взгляд на психику: серьёзный и, одновременно, с долей чёрного юмора.
Когда в школе появился предмет “психология”, я был уверен: наконец-то узнаю, как устроен внутренний мир человека. На деле же встретил только типологии и списки темпераментов, которые не объясняли живых противоречий. Особенно ставил в тупик вопрос про раздвоение личности: “Что такое личность?” — спрашивал я учителей. Ответ был один — “Это ты”. После этого я не унимался: “Где конкретно она находится?” Никто не мог ответить. Так я начал искать свои ответы.
В детстве, после развода родителей (а точнее — мужа и жены, как я теперь понимаю), был и курьёз: моя близорукость минус 7 сыграла свою роль. Я однажды бросился к незнакомцу, приняв его за отца, и услышал в ответ: “Мальчик, я не твой папа, иди на хрен”. Позже анализировал, как несовершенство восприятия и эмоции могут создавать внутренние мифы, которые потом становятся частью личности.
Были и другие бытовые моменты: ремень или тапочек матери, ссоры, обиды, маленькие предательства. Всё это складывалось в багаж чувств и сценариев, которые оставались на полках памяти, формировали мои реакции, убеждения, ожидания — особенно в роли “сына”.
Не скрываю, бывали моменты, когда хотелось просто исчезнуть. Только прожив собственный кризис и долгий период внутренней растерянности, я начал понимать, что поиск смысла, поддержка и честность с самим собой — необходимы каждому, кто работает с чужой болью.
Почему я выбрал психологию
Именно эти вопросы и внутренний опыт определили мой профессиональный выбор. Мне хотелось понять, что происходит с человеком “изнутри”, как объяснить не только закономерности поведения, но и внутренние противоречия, которые формируют настоящую, а не книжную личность.
Поэтому я поступил в ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» и получил квалификацию клинического психолога (диплом № 772400026191, 2015 год). Углублялся в семейную психологию и конфликтологию в МГГУ им. М. А. Шолохова (2013 год, удостоверение № 1414), изучал интегративно-ресурсную психотерапию у доктора психологии Веры Леонтьевны Савеличевой (2018 год, сертификат № N25, центр «Вера», Зеленоград), а также медиацию в семейных конфликтах в Европейской академии естественных наук (2015 год, рег. № 023).
Кроме того, имел опыт обучения в Швейцарии, где изучал отельный бизнес и работу с людьми в индустрии гостеприимства. Этот международный опыт дал мне ещё одно измерение понимания человеческих отношений: как строятся доверие и коммуникация, как быстро распознавать и решать конфликты, как важно создавать “психологически безопасную среду” — вне зависимости от страны, профессии или статуса человека. Всё это органично вплелось в мой психологический и терапевтический инструментарий.
Особое место в моём становлении занимает именно Вера Леонтьевна Савеличева — доктор психологии, практический психолог, мой учитель и наставник. Благодаря её опыту и поддержке я научился видеть за симптомом — личность, за ролью — уникальный внутренний мир. Многое из того, что использую в практике, выросло из нашего диалога и наставничества.
Сейчас продолжаю повышать квалификацию в Московском институте психологии (с 2024 года, специализация — клиническая психология, углублённая диагностика и психотерапия состояний личности).
Каждый этап образования был не просто освоением дисциплины, а возможностью проверять теорию на практике, сопоставлять академические знания с реальным внутренним опытом — и собственным, и клиентов.
Как возникла моя теория
Постепенно, сопоставляя личную историю, университетское образование и опыт работы с людьми, я пришёл к выводу:
Человек — это не единое “я”, а сложная система внутренних ролей, каждая из которых может быть самостоятельной, со своей памятью, эмоциями, стратегиями, конфликтами.
Ни одна из существующих теорий не отвечала на этот вопрос так, как хотелось мне. Поэтому и появилась моя авторская концепция — “Психология внутренних миров”. Это теория о том, как живут и взаимодействуют наши внутренние роли, почему они иногда конфликтуют между собой, как в этом рождается внутренняя борьба, тревога, но и возможность для роста.
Моя миссия и профессиональный подход
Сегодня мой опыт и знания сложились в авторскую систему работы, которую я продолжаю развивать и проверять на практике. Я клинический психолог, работаю индивидуально и с семьями, веду консультации онлайн и в кабинете, участвую в научных проектах и постоянно учусь новому.
Моя задача — помочь человеку увидеть и осознать свои внутренние роли, услышать свои эмоции и потребности, разобраться в запутанных чувствах, страхах и привычных сценариях. Для меня важно работать только научно — без эзотерики, мифов и “универсальных советов”.
Каждая консультация — это совместное исследование, где клиент получает не “готовый ответ”, а навык самостоятельного диалога с собой.
В своей работе я опираюсь на преемственность отечественной научной школы: от классиков И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского, Л.С. Выготского до современных исследований в области нейронаук.
Я учитываю вклад А.В. Курпатова и активно интегрирую новейшие открытия ведущих российских и зарубежных нейробиологов: К.В. Анохина, Н.Л. Костюнина, Antonio и Hanna Damasio, Jonas Kaplan, Karl Friston, Olaf Sporns, John D.E. Gabrieli, Russell A. Poldrack, а также современных исследователей — Xiaodong Zhang, Alexandru D. Iordan, Peng Qing, Qi Liu, Georg Northoff и других.
Для меня важно соединять классическую традицию и мировую науку, чтобы мой подход был не только научным, но и практически эффективным.
Также в работе я опираюсь на практику интегративно-ресурсной психотерапии (ИРП) и авторский взгляд на внутренние роли, их автономию и динамику.
Моя миссия — не чинить, а сопровождать до момента, когда человек может ясно и спокойно быть самим собой: принимать свою уникальную историю, видеть свои роли, находить внутреннюю опору и самостоятельность.
Я помогаю людям принимать свою уникальную историю и строить путь к внутренней целостности — без оценок, с уважением к опыту каждого.
Что я предлагаю
- Индивидуальную диагностику и разбор структуры личности и ролей
- Решение тревоги, внутренней борьбы, чувства “застревания”
- Глубокий, научный подход без эзотерики и универсальных “рецептов”
- Конфиденциальность, уважение и профессиональную поддержку
- Современный онлайн-формат или очные встречи в кабинете
Профессиональные профили
- ORCID: 0009-0005-7076-8423
- ResearcherID: NES-1519-2025
- Academia.edu: StanislavPererodin
Если вы ищете не “волшебное решение”, а честный, вдумчивый диалог и путь к себе — буду рад помочь разобраться в себе и увидеть свой внутренний мир шире.
Чаще всего это проявляется как тревога, усталость, эмоциональные всплески, трудности в отношениях или ощущение потери опоры. Задача работы — понять корень состояния, вернуть ясность, снизить внутреннее напряжение и дать возможность реагировать осознанно, а не автоматически.
- 0. Предварительная диагностика
- Перед первой встречей я отправляю вам несколько диагностических тестов.
- Они помогают точнее понять ваше состояние, уровень напряжения, особенности эмоциональных реакций и ключевые паттерны.
- Это экономит время на консультации и позволяет начать работу более прицельно.
- 1. Первая встреча
- Вы описываете своё состояние и то, что беспокоит сейчас.
- Я уточняю детали, задаю точные вопросы и помогаю сформулировать суть запроса
- Уже на этом этапе многие отмечают облегчение — появляется ясность и ощущение опоры.
- 2. Понимание причин
- На основе тестов и беседы определяем ключевые механизмы, которые удерживают ваше состояние.
- Часто настоящая причина лежит глубже, чем кажется на поверхности.
- Формируем чёткий план, с чем именно будем работать дальше.
- 3. Работа с переживаниями
- Спокойно и последовательно прорабатываем эмоциональные реакции, внутренние конфликты и внутренние сценарии.
- Объясняю, что происходит в психике и почему возникают те или иные состояния.
- Постепенно вы начинаете реагировать иначе: спокойнее, осознаннее, без привычного внутреннего напряжения.
- 4. Новые стратегии
- Фиксируем изменения: устойчивость, ясность, способность держать себя в сложных ситуациях.
- Корректируем шаги и закрепляем новые способы реагирования.
- Главная цель — вернуть вам устойчивую внутреннюю опору, которая остаётся надолго.
Каждый приходит со своей историей — про тревогу, повторяющиеся сценарии, внутренние конфликты. Здесь собраны отзывы людей, которые уже прошли этот путь. Все тексты опубликованы с разрешения клиентов. Имена и изображения изменены для сохранения конфиденциальности.
У Станислава своя, особенная техника. Месяцами можно ходить к другим психологам и рассуждать о проблеме, но так и не сдвинуться с мёртвой точки. Со Станиславом всё по-другому. Он мягко и точно проводит тебя именно туда, куда нужно. Он видит суть и задает те самые вопросы, которые помогают заглянуть вглубь себя. Я до сих пор не всегда понимаю, как это работает, но после его сессий приходит настоящая ясность и ощущение, что ты наконец-то разобрал завал, который мешал годами.
Этот формат требует смелости и готовности работать, но он эффективен. Станислав умнейший человек и классный профессионал. Я рекомендую Станислава тем, кто устал от бесконечных разговоров с психологом и хочет реальных изменений.
Станислав, благодарю Вас за оказанную помощь! Реально помощь - а не просто консультация) Обращалась к Вам по семейным вопросам, а разобрали все существующие и возникшие вопросы. Да, было нелегко искать ответы. Но как действенно! Вы так аккуратно «подсветили», что не все виноваты в происходящем, а что и я имею к этому отношение! Это важно осознать, понять и принять! И обязательно работать это над собой!
Подтянула и подтягиваю все сферы своей жизни.
Благодарю, что выслушали, направили и помогли!
Рада, что обратилась именно к Вам!
Затем более углубленное выяснение моего состояния с помощь выписываний, ответов на вопросы. Это и мне помогает более ясно и структурно видеть, что со мной происходит, в каком я нахожусь сейчас состоянии, чем это детерминировано. Плюс твои пояснения и объяснения почему так происходит, как это было выяснено, научное обоснование.
Вместе с тем произошла закладка дальнейшей практики замечать и тренировать переключение внутреннего ролевого аспекта в соответствии с внешним ролевым аспектом, в соответствии с контекстом. Что поможет прийти к балансу
И к финалу был самый разъёб через практику выписывания от внутреннего аспекта роли Ученика "Зачем мне следить за политикой, экономикой? Зачем мне бег?"
Не просто знание, а осознание с прошибанием на эмоции, на слезу.
Ученик таким образом занимается "подтягиванием" меня по отцовской линии. Образ Отца для меня важен не просто как понятие, но как внутреннее стремление к нему, как ориентир.
Ну и внутренний аспект роли Ребенка/Сына - тот еще бунтарь и метатель "говна", главный по протестам и саботажу
И длинные, как изначально кажется, 3 часа пролетели незаметно. И я доволен, я обрёл новое знание, и, что важнее, его понимание.
Спасибо!
Мне посчастливилось познакомиться с Станиславом Переродиным, когда он вёл свои корпоративные тренинги в нашей компании.
Два дня тренинга изменили моё мнение и видение того бизнеса, которым я занималась. Тренинг прошёл интересно, с чётким пониманием, как наше внутреннее состояние влияет на работу, а работа — на моё эмоциональное состояние.
Было много интересных инсайтов и, конечно, результат!
Благодарю, Станислав, тебя за твою самоотдачу, за глубину в работе с нашей командой и индивидуальный подход к каждому участнику тренинга!
Мы очень сплотились на тренинге, и внутри коллектива появился командный дух, выросла наша мотивация для лучших результатов.
Благодарю за такой уникальный подход к людям и любовь!
Желаю тебе дальнейших успехов и процветания!
Проблемы с суставами и сердцем не давали мне полноценно жить. От своей подруги узнала о том, что в наш город приезжает психолог Станислав Переродин и будет проводить индивидуальные консультации. Так я попала на первую консультацию к Станиславу. Он внимательно меня слушал, задавал вопросы и отвечал на мои вопросы. В результате нашей встречи, которая длилась 3 часа, мы рассмотрели причину самой главной проблемы с моим здоровьем.
Каково же было моё удивление, что проблема лежала на поверхности. Ты так подробно всё объяснил... я, конечно, плакала и в то же время возрождалась заново!
Дорогой Станислав! Ты творишь чудеса!
Через 3 дня сильные боли в суставах и сердце ушли, и я начала жить полноценно, без депрессии, страданий и лекарств!
Сегодня чётко знаю, что все проблемы со здоровьем и в жизни — только в нашей голове!!
Благодарю за душевное равновесие! Благодарю за желание снова жить и радоваться каждому дню!
Благодарю за твой талант Психолога и просто Человека!
Счастья тебе, Станислав, и здоровья!
Я работаю с клиентами, находящимися в стабильном психическом состоянии и готовыми к плановой психологической работе.
В случаях острых психических расстройств, угрозы жизни или тяжёлого эмоционального срыва я обязан направить вас к профильным специалистам.
- Что такое кризисная ситуация?
Кризисная ситуация — это состояние, требующее немедленного медицинского или психиатрического вмешательства.
- К таким состояниям относятся:
- Суицидальные мысли, намерения или подготовка к попытки (например, мысли о собственной смерти, желание “уйти”, планирование способов, прощальные письма).
- Острое чувство отчаяния, неспособность контролировать себя
- Панические атаки, при которых теряется контроль над поведением или возникает опасность для себя/других.
- Агрессия, не поддающаяся контролю
- Потеря связи с реальностью — сильная дезориентация, спутанность сознания, ощущение “нереальности” происходящего.
- Ситуации насилия, угрозы жизни и здоровью (домашнее насилие, сексуальное или физическое насилие, угроза убийства, серьезная травма).
Особое внимание: психотические состояния (психоз)
Я не веду клиентов в состоянии острого психоза и других тяжёлых психических расстройств.
Психотические состояния включают:
- появление галлюцинаций (слуховых, зрительных, тактильных и др.),
- бредовые идеи (убеждённость в нереальных событиях, идеях преследования, “особой миссии” и пр.),
- тяжёлую дезориентацию во времени, месте или собственной личности,
- выраженное нарушение самоконтроля, неспособность отвечать за свои действия,
- острое возбуждение, агрессию или опасное поведение.
При появлении подобных симптомов необходима немедленная консультация психиатра или вызов скорой медицинской помощи (112, экстренные психиатрические службы).
- После выхода из кризиса
После стабилизации состояния и завершения экстренного лечения возможна плановая работа с психологом по вашему индивидуальному запросу — для восстановления, сопровождения в период реабилитации.
- Куда обращаться в кризисной ситуации?
- 112 — Единая служба спасения (Россия)
- 051 — Экстренная психологическая помощь (РФ)
- Психиатрическая неотложная помощь вашего города
Важно: Клинический психолог помогает с исследованием себя, восстановлением и профилактикой, но не заменяет экстренную медицинскую или психиатрическую помощь.
Если вы не уверены, относится ли ваша ситуация к кризисным — напишите мне или позвоните на горячую линию поддержки. Безопасность — всегда на первом месте.
В классических подходах роли и субличности трактуются как поведенческие позиции, эго-состояния или социальные маски, без строгих критериев автономии и нейронаучной верификации.
В данной теории, опирающейся на модель RAMSD, роль рассматривается как автономная психическая система — с собственной памятью, мышлением, чувствами и нейрофизиологическим коррелятом. Структура и динамика таких ролей формализованы, диагностируются и анализируются на основе современных данных психологии и нейронауки.
Иными словами:
Здесь внутренняя множественность личности объясняется и исследуется не как метафора, а как реально существующая, воспроизводимая система, что позволяет проводить целенаправленную диагностику и терапию.
Работаю с внутренними конфликтами, тревогой, чувством внутренней раздвоенности, эмоциональным напряжением, прокрастинацией, затруднениями в принятии решений, повторяющимися неудачами в отношениях, ощущением “застревания”, потерей мотивации и поиска смысла, а также с трудностями самоопределения и идентичности.
Основной фокус — анализ и интеграция ролевых аспектов личности, что позволяет выявлять и устранять глубинные причины этих состояний.
Все обращения строго конфиденциальны.
Все обращения строго конфиденциальны.